 |
═══════ |
|
Предисловие публикатора. Часть 1.
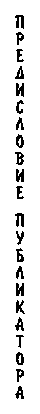
С омерзением, с почти болезненным (воистину - тернии стервеца Стерна!)
содроганием своего гетеросексуального (воображение уже рисует прожженных
и - вот гнусное слово, с привкусом как бы полупресмыкающейся маринованной
миноги, - "поджарых" александрийских шлюх, выкуривающих, одну
за другой, свои мускусные, матросские пахитоски) сердца, достойным, кажется,
лучшего применения, предаем мы Гутенбергии, а равно Королевству Кривых
Зеркал и Обеих Сардиний - изумрудному Дивногорску литературы, этот соблазнительный
труд Николая Уперса, оказавшийся в нашем полном распоряжении вследствие
центростремительной и непреднамеренной смерти автора.
Термин истового Орландо, вооруженного структурально-дюралевым Дюрандалем
и, милль пардон, Олоферном (ощи ишибку!), будучи здесь ни при чем, будучи,
более того, притянутым за уши (а хотелось бы мне спросить вас, судари вы
мои, к какому такому конкретно предмету "притягивают за уши";
и обратите внимание тут на многозначительное множественное число-с!), -
так вот, термин этот (не путать с "терниями"!), несмотря на его
средневековую, в сущности, аляповатость и благодаря исключительно имени
изобретателя, проясняет, тем не менее, нашу, вашего покорного слуги, роль,
служит нам, ему, путеводной звездой. Мы есть "рог" и - по созвучию,
но чуть более звонко - "бард". Мы созданы, следовательно, для
того, чтобы вострубить - и воспеть автора. И тут мы вступаем в противное
противоречие.
Увы, специфика Уперсова сочинения такова, что о сочинителе благообразней
было б вообще забыть - умер, дескать, так умер, а само сочинение его не
печатать. В худшем случае, всякий сколько-нибудь добропорядочный публикатор
не может обойтись тут без того, чтоб не сказать нескольких строгих и назидательных
фраз, обращенных к едва оформившемуся молодому читателю, в неосторожные
руки которого, возможно, попадет книжка, называемая "Апокрифы Феогнида".
С пунцово-постыдным лицом он должен пролепетать гро(я?)зную речь - если
и не о Союзе рыжих, то, как минимум, о Содружестве пегих (искра разума
мелькнет в этот миг в умных собачьих глазах нашего пристрастившегося к
Эзопову языку спутника), напомнить ряд славных имен - как-то: Кокто, Платон,
Харитонов, Вигель, Виктюк... Лебединое озеро раскружит свое сиропно-педерастическое
безумие - ах, эти кружевные вздрагивающе-качающиеся серсо; эти фигуры развращающего
вращения; этот призывный, пронзительный крик гордо реющего Петра Ильича!..
Но вот вопрос: является ли лицо, пишущее данные строки, таким добродетельным
публикатором? Не знаю, не думаю, вряд ли. Ну поглядите на меня в зеркало!
"Мне еще не доводилось встречать человека, - скулит, привлеченный
за жидкую хошиминку, Конфуций, - который любил бы добродетель так, как
любят плотскую прелесть". Браво, маэстро! Не станем и мы выпендриваться.
Плюнем. Пошлем заинтересованного к зевсобородым кумирам девятнадцатого
столетия. Пусть наполнит слух свой энгельским голоском. Пусть выпьет всю
патоку розоватой воды, выливающейся из мшистого рта какого-нибудь Ипполита
Тэна или Джона Рёскина. Пусть наслушается скушного сумасшествия Вайнингера
("Пор и Галактер"). Пусть налюбуется жвачно-сюртучным Штайнером,
сфотографированным в позе Венеры, но с рыбьим глазком монокля - гляди:
Волошин Максимилиан. Коктебельские берега. - Симферополь, 1990.
С. 151... Нам же скучна эта иппотэнтическая культура; но и читателю, которому
нижепубликуемые тексты покажутся соблазнительными и который почувствует
нездоровое отвердение какого-либо из своих членов, будь то, на худой конец,
лицевой мускул, мы посоветуем незамедлительно обратиться к специалисту-асклепию.
"Хотел бы я быть каламом в его руке или чернилами на его каламе:/
иногда он взял бы и поцеловал меня - это когда к ротику калама пристанет
волосок" (Ал-Хабзарруззи, Х в.). О каком соблазне может идти речь,
мой господин, если вы вознамерились пить чернила? Полно! С чего балдеть-то?
Особливо теперь, когда Уперс умер ("Уперс умер-с" - различаю
здесь маргиналию нашего остроумного призрачного приятеля) и рассмотрение
его своеобразных пристрастий приобретает отчетливо некрофильский оттенок:
впредь его плоть тревожат не мальчики, а личинки. Этими воспаленно-придаточными
предложениями, - кто любит попа, кто - поповича, а кто и, стыдно сказать,
- попочку, - ваш покорный слуга, не принадлежащий к персонажам, склонным
совать сатирический нос свой в специальные области соседской физиологии,
и ограничит свои соображения о содержании нижеприложенной книжки. И о форме
тоже воздержимся.
Скажем лишь два слова о происхождении текста. Хотя присланная мне покойником
Уперсом рукопись и содержит наукообразные ссылки на недоступно-американский
источник с курчавым эгейским загривком - Apokriphos Theognis./ Introduction
and Commentary by Elisey Krupan. - Serenston University Press, 1955, -
подозреваю, что эти якобы новооткрытые восьмистишия мнимомалоазийского
псевдоаристократа - не более чем очередная, жаль - последняя, выдумка нашего
неживого уж друга, умысел Уперса. Оговорюсь, впрочем: суждение мое сугубо
(суккубо?) предварительное, профанное - и только научное феогнидоведение
сможет внести в этот вопрос должную ясность. Я же ответственности на себя
не беру, выступая лишь в качестве очередного передаточного звена. И меня
более всего занимает звено предыдущее - фигура сомнительного переводчика
- или, если угодно, мертвого автора. Об авторе и поговорим.
Я познакомился с Уперсом на одной из литераторско-скотских московских
тусовок 1989 года... Ах, говори, докладывай, присовокупляй, ври, шпик Мэмори,
мнимая Мнемозина! Нарисуй нам портрет Уперса. Не забудь про усы. Принеси
нам персидской сирени. Пригласи наших с Колей приятелей - новозеландца
Паулина Рескея и финна Рейнике Ласпу. Что станем пить? Чем закусывать?
"Вкусил из тимпана, выпил из кимвал, стал мистом Аттиса". Какую
чушь, мамочка муз, ты доносишь!.. Тащи лучше швейцарский паштет, рейнское,
зазеленевший сыр из отшумевшей "Березки"... А ты, который и впрямь
"по волнам помчался", который и впрямь метафизически "оскопил",
ты не скучаешь там по здешней жратве - по шекснинской стерляди и щуке с
пером, столь отдающей Шекспиром, Стенфордом, смуглой стервой "Сонетов"?
Встречаешь ли там щегольски одеттого Пруста? Слились ли там наконец твое
монгольское alter igo и твое коварное супер-Яго?.. А еще: салат товарища
нашего Оливье, салат вассала, не вспоминаешь ли ты?
Только теперь, утратив тебя, ощутив странную пустоту в некоем отсеке
своего существа, я начинаю по-настоящему понимать, что в сущности я любил
твою насмешливую улыбку, твою речь, от ледовито слепящих острот западавшую
подчас в блаженное, нечленораздельное (вот где секрет!) бормотание; любил
тоскующее и смятенное выражение твоего лица, с реалистическим скрипом превращавшегося
в одухотворенную морду ловца бабочек, когда залетал какой-нибудь беленький
гоголек, за которым ты в тот момент волочился. "Когда б он обвил алчные
николядвии! - думал я, с состраданием созерцая твои фасеточные усилия.
- Ужель никогда, ник-когда?" "Звоните мне не позднее одиннадцати,
- говорил ты, - телефоны стоят в потенциальных спальнях моих домашних".
Или: "Позвольте вас на один парафраз". Или: "Я остановился
на проспекте Мороза Тороса"... Какие глупости плавают в памяти, какие
мнемозанозы!
Странно сказать, но я, вероятно, любил тебя. Трудно это все объяснить.
И к тому же здесь нас подслушивают; могу представить себе, что они, упертые
зрачком в строчку, вообразят! Закрой рот, не выпускай никому уже не предназначающегося
тепла. Кто ты теперь? Капитан стонущего корабля, мчащегося на снежном ветру?
Как в одном из тоскливых рассказов плешивого Гарика? По морям, по волнам...
В моем усталом мозгу, словно в жалком альбоме, сохранились лишь разрозненные
бесцветные фотоснимки. Ник-книголюб. Книга Ника. Ночник Ника. Поникший
Ник. Уперс, бредущий к пирсу. Уперс, ныряющий с пирса. Вот Ник-именинник,
лучащийся зарубежным успехом, стоящий в обнимку с Никой. А вот Николай-нидворай
- маленький, жалкий лях-Николайчек, со своей партией мелких хозяйчиков...
Ник, помнишь ли обо мне? Шепни мне: "Икни-ка". Или нынче ты -
Ник-аноним?
Всё. Смахнем слезу. Закрутим горячий кран. Оставим холодный. Вздрогнем.
Покроемся огуречно-литературным восторгом.
...Я познакомился с Уперсом на очередной репрезентации скабрезно рожаемого
помпезного супержурнала презренно-перезрелого русского аванграунда. Как
же он, журнал, назывался? "Золотой конец"? "Век Золотого
Конца"? "Концепт-рация"?.. Фи, кого там лишь не было! Был
тунгусский шаман, состоящий из междометия и скушного имени Мопассана, -
диковинка-гном, лелеемый истосковавшимися по Лимпопо Тартаренами - профессорами
Сорбонны: "Ай, гигиена!" И заводной Прыщиков, еще не убывший
в Гонолулу. И нежнобородый, печальноглазый талмудист-выдумщик Миша Эхблин.
И некто, именовавший себя "Дрыговым", с целым выводком прыгающих
приготовишек. И сам Цитронов, передравший не одну сотню берберских мальчиков,
а главное - лучшие свои коричневые страницы с "Клода-Франсуа"
псевдо-де-Сада. И сам щуплый псевдо-де-Сад. И напередзадный Лиахим Восонотолоз,
коего всегда видишь в публичных местах, даже библиотеках, разгадывающим
тайные символы антимасонского заговора. И сам Гектор Малафеев, вскормленный
семенем всех гениев предыдущих веков, тщедушно несущий свою онтологическую
невыразимую мерзость. И некая помесь прославленного отечественного пианистического
дуплета с царственным африканским животным, демонстрировавшая карточно-философские
фокусы. И Тамерлан Кигибиров. И Паша Птенцов - цокающий, словно ценимые
им русские жеребцы. И великовозрастный, гигантскоклеточный Конст. Ононов
в красной косоворотке. И вороватый Цорокин. Был Дрык. Были Аристов и Пилатов.
Был Рыгор Адов со своим "Глистоглотом". И бородач Гелен Инсбрук
с голографией удастого своего Беатриса на фронтисписе содомского тома верлибров.
Был Дрыгоножченко. Была Иск... Но нет! Поменяем буквы местами, скажем:
была Икс, ибо о дамах - только хорошее, либо ни-ни... Был каперс, был джюс.
Как оказалось потом, был Уперс. Был - не поверите и правильно сделаете
- я. Не было только сказочного Шекспира в смазных сапогах, похожего на
усатого писар(ев)ского котофея.
Янтарно-оранжевый эмбрион gorbie увяз в кариесной пещере карстового
дупла, и когда, после тщетных стараний барботировать его незрелым крымским
"игристым", я вознамерился уже применить грубо-механистические
методы, а наглые мордастые модернисты лебезили вокруг на всех башенных
языках перед всесильными отставными славистами, - вот тогда, по-видимому
из-за суетной тесноты и мусикийского одеколонного смрада, в мое ребро больно-пребольно
уперся костистый кулак Уперса, вернее, того расхлябанного господина, который
не замедлил им оказаться, - кулак, содержащий в себе полуупотребленный
уже фужер, - ах! - живо очистившийся в промежность моего пиджака и рубашки...
"Неопычайно трутно мне фырасить с трепуемой силой этот фсрыф, эту
трош, этот толчох страстнохо уснафаниа", - скасал пы классик с раздвоенным
языком. Вино было льдистым, но, к счастью, валгалльным.
"Уп?.." - икнул я и выронил припасенную спичку.
"Ес, ес! Николяс Уперс, писатель", - произнес вместо извинения
неизвестный, словно насаждая кипарисные тисы вокруг стылого надгробного
лабрадора. Вероятно, он даже сказал - "ecrivain"... Нет, нет,
"writer" он вряд ли бы приложил к своей уперсовской персоне.
"Зи зинд швайцер?" (Что, полагаю, характеризует быстро пришедшего
в норму, сообразительного и едва ли не благодарного за освежение Эго.)
Но, но, он не есть Швейцер, он совершеннейшим образом не швейцар, увы,
он не швед и не швец, он, Уперс, если угодно, русский, если на то пошло,
Уперс-русак, но, боже, что может быть пошлее национальности...
Мы, конечно, разговорились.
К сожалению, подробности этой беседы напрочь изгладились из моей слабой
памяти. Кроме, впрочем, одной, - мне хочется не упустить даже малейшей
крупицы, помести по сус-сексам англоязычной богини, - когда к нам приблизилось
косматое ископаемое существо, напоминающее скорее всего уродливого маркера
из телесериала о мистере Холмсе и докторе Ватсоне (пламенный привет эссеистике
незнакомого племени!), Уперс спросил заговорщицки (ну и словечко!): "А
знаете ли вы имя той музы, которая заведует всем этим подпольем?"
Я улыбнулся. "Crivulina", - шепнул он мне на ухо.
Перебирая сейчас в уме свои первоначальные встречи с сочинителем "Апофеог"
(так можно было б ушить удушливо раздувшееся название уперсовской фальсификации,
дабы вынести за скобки здешнего бытия хотя бы одну приапическую фиту),
я задним числом (что ж за число такое?) поражаюсь собственному нелюбопытству
к этому удивительному человеку. Ну, положим, первую скрипку играла тут
зависть. Заморский успех Уперса казался мне следствием разветвленного гидо-масонского
заговора харонических уранистов, переводящих через пограничную реку (айда,
дескать, в айдес!) представителей russkogo приотельного арта, крепко держа
каждого за лепесток украинской плоти... Где вы, Тимур и его Ко?
В Ка? Прикрываешь ли там кленовым листом свои гениталии, как делал ты здесь,
вооружась пионерским галстуком? Как поживает Квебек, разросшийся из коробочки
сталинских скачущих папирос?
В конце того же книжно-журнального года я столкнулся с Уперсом на семиотическом
симпозиуме в Симеизе, где Сим, как всегда, мешался с воспоминаниями о яфетической
теории, хамством и пьянством - и где Уперс днем позже читал краткое, но
впечатляющее на общем пищеварительном фоне ("Латентно, ах, Константин
Михалыч, латентно!") сообщение "Геодезия Гезиода". Там мы
с Ником только раскланялись да обменялись беглыми (ах, колкий Николка!)
замечаниями о меценате ("Мнится: нате!") - устроителе полунедельного
южнобережного кайфа, невинном ректоре винного института - и еще о самом
феномене воссоединения винокурения с языкознанием ("Куш-марр!").
Кофий был желтоват, но помню, как оскорбило меня и огорчило, когда,
отходя от нашего столика, он сказал: "Вы, Василий, всуньте все это
веселье в стихи". Увы, звенящая дребедень липко повисла в бескислородном
пространстве: перс, оказывается, забыл, как зовут Лжевасилия, слил нас
с каким-то (вообразите!) Василием в своем сумасбродном мозгу. Сколь, сколь
мы были оскорблены! Странно, но этот Уперсом спертый воздух, этот лакунный
вакуум преследовал нас до самого отъезда из Симбиоза, до самого старта
с мыса Сигей. (Хороший, кстати сказать, псевдоним для какого-нибудь велимироеда
- Мыс Сигей, а? А вот вариант для дамы - Мисс Сигей.) Помоечный Земфирополь,
созерцаемый нами из одичавшего, ринувшегося в поля троллейбуса, поддакивая,
как бы язвил: не верна, не верна!..
Но сами посудите, сударь, с чего бы? Видел его во второй раз, стихов
его не читал... Диковинно уже то, что я сразу запомнил это никелиновое,
медно-никелевое (Ni + Cu) имя. Стоило ль удивляться тому, что мои "лексика"
и "урина" вылетели из его лысеющей головы на ветру, свирепствовавшем
между июльской Москвой и декабрьской Тавридой?.. В январе мы свиделись
в Ялте.
Но нет, путает, врет writer - то был Гурзуф в ромуле августуле 1991-го...
Впрочем, несмотря на симметрию, месяц еще слыл августом, телерадиовстряска
была еще впереди, председательствующий еще резвился и благоденствовал под
призрачным колпаком своего маяка. Мы же арендовали клеть на одной из гипотенузных
улиц. Уже вторую неделю мы жили в Гурзуфе...
Последняя фраза заставляет меня задуматься о смысле слов. Что значит
"вторую неделю"? Следует ли это понимать так, что вот "мы"(?)
"живем"(?) восьмой день в этом рычащем и ухающем топониме? Или
"мы" тут уже дней, скажем, тринадцать? Существенная, согласитесь,
разница. Или, наоборот, речь идет о двух-трех сутках: приехали (прилетели,
приплыли?) в субботу, а нынче, глядь, и понедельник настал? С другой стороны,
если вдуматься, не столь и важно - три-четыре дня "мы" тут околачиваемся
или десять-двенадцать. Жизнь-то курортная - единообразная, выморочная.
Но все равно интересно - когда ж и как же "мы" здесь оказались.
Еще занятней - что имеем в виду мы, произнося словосочетание "мы жили"...
Догадываешься ли ты, поскучневший читатель, что это отступление я делаю
из педагогических (педомагогоческих?) соображений? Тебе - едва оперившемуся,
юному, трепетному, нежноротому, легко формуемому, как теплый воск, - предстоит
вот-вот окунуться в опасные воды уперсовской поэзии, кишащие плотоядными
и прожорливыми (здесь опять на память приходит мне александрийская гавань)
аллюзиями и реминисценциями. Стоит там зазеваться - сразу отцапают. Поэтому
не верь, дружище, ни единому слову, нарисованному на бумаге, дрожащему
в воздухе. Нет субстанции иллюзорнее слова. Всякое слово ничего ровным
счетом не значит, но в то же время тщится означать все, что угодно. Чтение
- попытка идти по озерной генисаpетской глади. Приманим, умертвим, проанатомируем
порхающую цитату:
"В домах своих знатнейших людей, тех, что всегда питаются ячменной
мантхой, напиваются они сидху, заедая говядиной, а потом шумят и хохочут.
Творят они всякие, какие ни пожелают, непотребства, болтают друг с другом
о чувственных утехах; откуда же быть дхарме между ними, прославленными
своими мерзостями, испорченными мадраками! <...> Не может быть союза
с мадракой, ибо ненадежен мадрака!" ( Махабхарата, Карнапарва,
гл.27, ст.71-84). И еще:"...переправившись через реку Шатадруку, через
милую сердцу Иравати, я вернусь на родину и увижу прекрасных женщин ее
с большими "раковинами"..." ( Там же, гл.30, ст.19-26).
Люблю обсосать цитату, как хрупкую и прочную косточку, вылизать каждый
ее солоноватый и клейкий нордический завиток, всякую ее скользкую дивную
впадину. Какое удивительное наслаждение - длить это языковое занятие, это
языкознание, это язычество!.. Но здесь, собственно, и обсасывать нечего.
Откуда наперед (передом?) знаем мы непристойность рокайля? Каким образом
мы понимаем впервые услышанные слова? И какое же слово в притянутом нами
дхармсовском тексте - самое омерзительное, самое маргаринное, самое жуткое?
Ответь мне, дружок. "Говядина", - ты говоришь? Дай я тебя расцелую,
дай я тебя обниму! У тебя есть слух. И поcмотри, Уперс нам с тобою подмигивает
и этак помавает ладонью из своего аттракционного ада.
В предвкушении последнего Одоакра, которому уже некуда отсылать императорские
регалии, мы с женой постельничали в одной из точек наклонной плоскости.
Жилище, схожее со стереометрической детской книжкой-разрезкой, могло мыслиться
и однослойным и многоэтажным. Вся эта структура была пронизана и оплетена.
Крикливую, словно Ставрополь и Новороссийск сразу, хозяйку, припоминаю,
звали Еленой, а фамилия ейная ( Бр.!) отчетливо голубела и цыкала,
как у собирательницы поваренной книги религий. Невыносимые невинномысские
глазки лоснились от упоения усыпительной наглостью. Какие реликтовые пернатые
спархивали с ея криворожских уст! Главным йойным чтением была, несомненно,
настойчиво ею сбираемая летучая паспортная библиотечка - синодик лепт быстроживущих
обитателей хламного бахчисарая, до такой степени засорившего кухаркину
территорию, что собственно дом, если кипарисный террариум можно назвать
"домом", мнился скорей нутряным двориком, по недомыслию - крытым,
в котором отвратно журчал фонтан прови(де)нциального телевизора... Прозу,
на стильчик чей я сейчас сбился, любят тискать сегодняшние передовые журналы;
изюминка тут в этакой, якобы психологической, скукоте интонации... Махатмы
посылали ей рецептурную весть - и она с трепетом стряпала вечерами смрадную
гадость, предпочитая баранину и редкоземельные травы, снабженные угрожающе
расщепленными стрелами и нечеловеческими кликухами. Овцы, должно быть,
трепетали пред ней, и впрямь - Молохом, пугливо блея, блюя от ужаса радужными
телепомехами, еле-еле подрагивая на елейных своих четвереньках - при виде
ее ебла в адской области пылающей керосинки. Когда теософка спала на софе,
меланхолическое пенье пружин мешалось со свиристением носоглотки и свистом
цитат. Звезды поскрипывали, помаргивали, мерцали игривыми померанцами.
Ибо электромагнитные волны суть затухающие-тухающие-ухающие-хающие явления.
Что там зарегистрировано в Женеве? Чушь собачья! "Мы выходим в эфир
на волнах"? Нет никакого эфира. Одна камфора. Один спирт. Распятый
арахисовый Христос-Ахиллес, перфорированный во всех предположительно уязвимых
местах предусмотрительными фарисеями, перешептывался с шуршащим, шевелящимся,
как гадючье перекати-поле, Шивой. Во вшивом саду существовало сплошное
шипящее. Трепыхался в селеновом серебре рихтованный мотылек. И затем чтобы
второе арийское имя не утратилось рассеянным, словно горох, словно рис,
гранулированным, едва ли уже не похрапывающим - эй! - читателем, среди
сахарных гималайских головоломок сна, где-нибудь на курьей дорожке, самопроизвольно
трещал орех...
А днем мы производили странные тренажи дурного бессмертия - намачивание,
высыхание. Авианосец, прикрыв глаза, дремал вдалеке от берега, напоминая
грязно-зеленого крокодила. К сожалению, я и мои современники дружно забыли
названия чуть-чуть более сложных, чем обычно, цветовых сочетаний. Кто сегодня
ответит мне, что из себя представляет женская шляпка цвета "умирающего
Адониса"? Палевая изнеженная мошонка Крымского полуострова беззаботно
свисала между гористо-бронзовых ляжек Евразии. Какое-то грузинское имя
у этого материка. Теперь ляжки его расчесали до крови. Бедные пеликаны
гагрипшского парка, плакучие ивы Андрича! От моей бабушки сохранились любопытные
членские марки, выпускавшиеся некогда обществом Красного Креста и не менее
помидорного Полумесяца. Обратили ли вы внимание, сударыня, что из гастрономов
исчезли граненые Близнецы - Кастор, наполненный серым кара-богаз-голом
("Карабас - гол!" - заорал Буратино), и Поллукс, с кровавой водицей
и заштопоренным обломком дюралевого вертолета? Да, весь автоматный томат
выпивается нынче там - в потных субтропиках. Грустно все это. Вспоминаю
с тоской Алешу Кирдянова, сделанного для тутошней, смутной и зыбкой жизни
как бы тем, бабушкиным еще, неоднозначным обществом. Каково ему-то, едва
ли не двуприродному?.. Но в описываемые здесь весьма отдаленные времена
ветроверт еще не пугал, а лишь пригнетал плоть к голышам наркозного пляжа.
Хотелось уже есть, но было почти невозможно встать. "...еще половина
второго, с какой стати?" - "Ну, съездим в Никитский, поваляем
Ваньку Толстого..." "Уперс", - сообразил я и раскрыл правый
глаз. Невыразительный торс Уперса удалялся, преследуемый вопрошающим телом
палестинского принца, за неимением головы великана, несущего сумку. Я опустил
веко.
Беру обратно своих убогих богов ( Иоан.,1,1-2) - свиделись мы
с Уперсом все-таки в зимней Ялте. Не удивительно ли, что наши случайные
и редкие встречи гнездились в прибрежных скалах, стлались вблизи теплокровного
моря - под вкрадчивый шепоток закипающего, словно "Абрау-Дюрсо",
прилива, перемывающего и шевелящего мнимые голыши русских шипящих? Предуведомление
это, предисловие это следовало б назвать - "Pontica Upersiana"
(нет, латинской грамматике я не обучен). Вообрази, лезер, вечнозеленый
дендрарий январской Массандры - все эти хвойно-секвойные ("секс хвой!")
запахи, ароматы, парфюмы, эфирокурения... Более деятельный и дальновидный,
менее ленивый и безалаберный сочинитель, а особенно немец, вроде ничтожного
Зюскинда, будучи на моем незавидном месте, выскочил бы в этот момент из-за
стола, вскочил бы со своего письменного кресла и устремился бы во вдохновенном
порыве внезапного озарения к книжному шкафу. Но мы читателю доверяем. Пусть
он сам, выдернув с полки биологическую энциклопедию, перечтет ее (вот как
мы тебе льстим!) от корки до корки. А главное - пусть вообразит баснословно
дешевый бездельный элизий в грандиозном интуристском отеле, с одноименным
названием, зажатом ботаническими садами, в преддверии Рождества. Полонез
Огинского, марш Радецкого, бред Бродского...
Оглянись, оглянись, Суламита, это воспето! И не однажды. И не нами
одними. Кипарис зависал, воздух был свеж, море метало стеклярусный лом,
волноломилось, кто-то мял пахучую веточку. Лифт слетал в тартар горной
породы, вавилонский туннель влек к нереидам... Ялта фри шоп, свободная
зона озона, песенки Уперсольвейг... Безмыслие - златое, голубое, зеленое,
как пиния и ель. И если бы не вымерли лифтбои, от Ялты до Венеции отель
доплыл бы. От балкона и бокала - до пляжного шезлонга. Кипарис, поляк и
херес - полная Валгалла! И зеркала соскальзывали вниз...
Ах, эти немцы и американцы! Дизайн и теннис - разве не айдес? Жезл
серафима держит в школьном ранце Тадеуш... Вещь в раю теряет вес. Жизнь
делается падающей в штольню, парящей... Спи!.. Базальтовый туннель филадельфийских
Дельф... И глазу больно - дельфины волн, делириум и хмель... Доассирийский
южный ужас хвойный - таблицы птиц и клинопись секвой. Здесь петроглифа
пулей дальнобойной вот-вот расколют мозг стеклянный твой: "Дзинь!
Диду-ладу..." Палочкой свинцовой, серебряной поманят - и конец. Цинк
отогнет рукой однояйцовый зеркально-смуглый (цыц, гнильцо!) близнец...


![]()